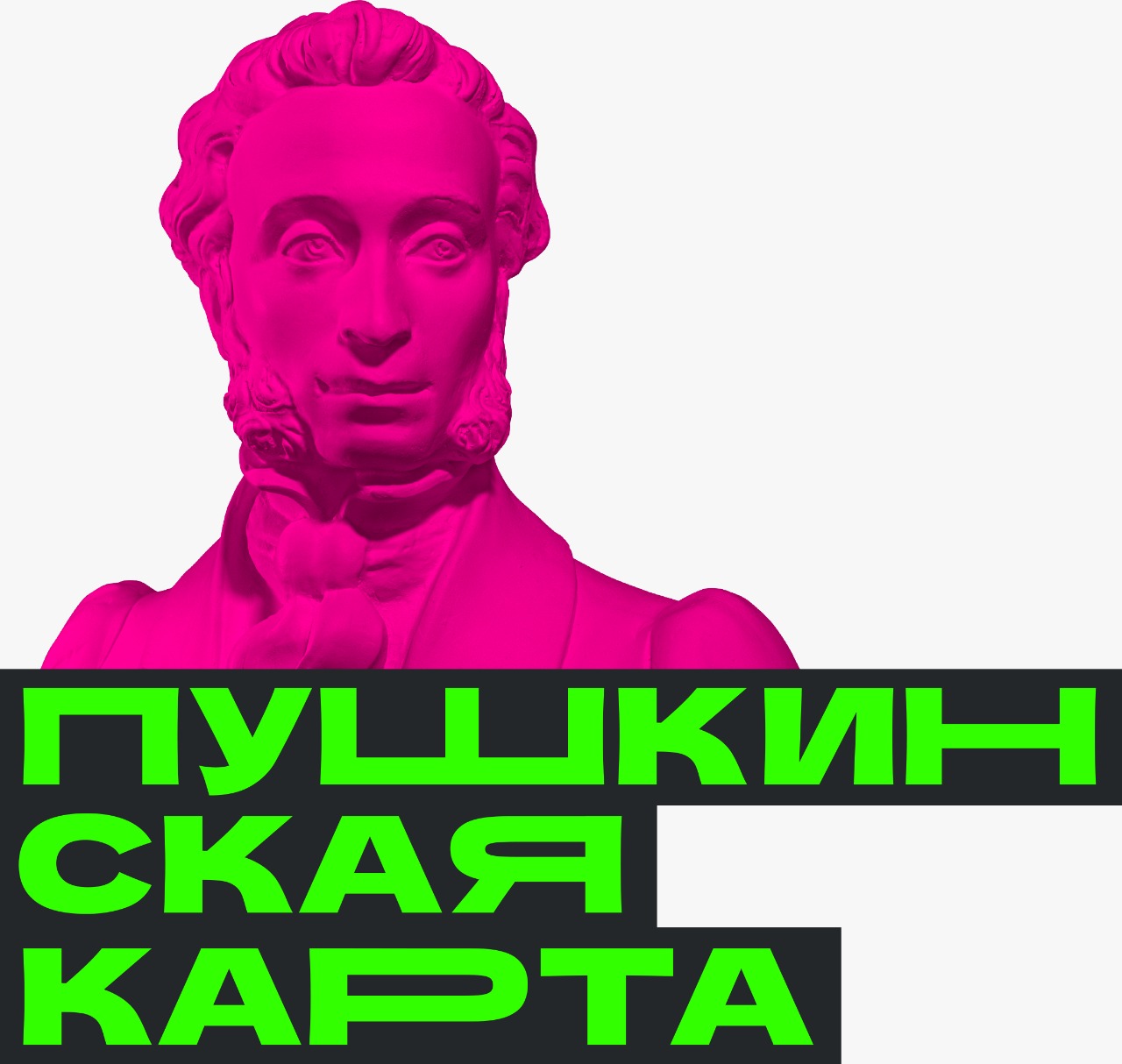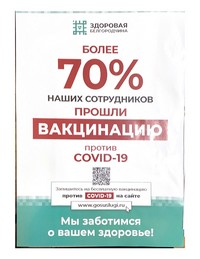Пресса
Ах, зачем эта «...ночь»?! (У. Шекспир. "Двенадцатая ночь")
Белгородские театралы соскучились по Шекспиру. Шутка ли: последний раз с ним мы встречались в прошлом тысячелетии! А без Шекспира, как ни крути, репертуар театра всё равно с ущербинкой. И вот «Двенадцатая ночь» - одна из самых веселых и искрометных комедий мировой драматургии. Читая её, просто невозможно удержаться от того, чтобы не расхохотаться в полный голос - так остроумны реплики героев, так уморительны комические положения, столько во всём этом хорошего театрального смака, соли и перца!
Вы будете смеяться, но режиссёр Сергей Стеблюк поставил «Двенадцатую ночь» без острых приправ, пресно и в общем не смешно. Что, надо полагать, проистекает от неясности общего замысла спектакля. «О любви всегда интересно ставить», - обмолвился режиссёр в предпремьерном интервью. И я, зритель, отчаянно пытаюсь найти этот интерес, обнаружить дух любви, тайну любви, вещество любви в том, что вижу на сцене. Повинуясь какому зову, одна героиня закручивает невероятную, рискованную интригу? Какая сила влечёт другую, красивую, знатную и богатую, отвергающую красивого, знатного и богатого жениха? Откуда возникает искра, мгновенно рождающая пожар сердца у целомудренного юноши? Что заставляет не мальчика, но мужа забыть о прежнем идеале и осознать: именно эта, а не другая предназначена ему судьбой?
Увы, я не нахожу ответов на эти вопросы! Не считываю символику лодки, приткнувшейся в углу авансцены, морских раковин, разбросанных по сцене. Не понимаю смысл включения в спектакль шекспировских сонетов, если их намеренно читают так тихо, невнятно и торопливо. И самое главное - ни рационально, ни эмоционально не могу объяснить мотивы поступков героев.
Однако при аморфности замысла спектакля, режиссерская заданность в актерской трактовке образов «Двенадцатой ночи» весьма отчетлива. Порой это выглядит удачно, как в случае с герцогом Орсино (засл. арт. России Виталий Бгавин). Образ строится через иронию, любовные страдания герцога пафосны и театральны, он самовлюбленно упивается своей страстью, и комический эффект сопровождает роль на протяжении всего действия. Порой режиссёр следует вполне поверхностному прочтению образа. Так, Себастьян (арт. Дмитрий Гарнов) - герой подчеркнуто романтический, речь его певуча, интонация приподнята, движения легки и стремительны.
вот героини, как мне показалось, стали жертвами неких режиссёрских установок. В Оливии (арт. Эвелина Ткачёва) С.Стеблюк увидел незамутненную лирику и больше ничего. И действительно, высокий голосок с нежными, сладкими нотами, воздушная возвышенность интонации в лирических сценах вполне органичны. Но когда Оливия в собственном доме выстраивает жесткую вертикаль власти, уверенно разруливает критические ситуации, хочется других - более резких, сочных красок в речевой палитре актрисы Ткачёвой, которыми, как мы знаем, она владеет очень выразительно.
Решение образа Виолы (арт. Оксана Бгавина), этого мотора действия пьесы, в спектакле таково, что актрисе, способной играть очень тонкие психические состояния, умеющей быть и дурашливо-ребячливой, и пронзительно-женственной, приходится в основном напряженно вслушиваться и всматриваться в происходящее. Живость, озорство, изобретательность, решительность, которые составляют обаяние шекспировской героини, режиссёр почему-то счёл лишними.
Особенно странно выглядят в спектакле парные сцены героинь (когда Виола изображает мальчика Цезарио, а Оливия, в отличие от зрителей, не подозревает, что перед ней девушка): в этой «комедии ошибок» так и просятся острые «специи», юмористические краски, но режиссёр упорно ведет партии героинь в лирической тональности.
Отсутствие ясно сформулированной задачи относительно смысла и стиля исполнения характеризует роли второго плана. Да, артист Игорь Ткачёв в роли сэра Тоби рвёт жилы, пытаясь сделать образ смешным, ярким, наполнить его энергией фальстафовского жизнелюбия. Но это стремление режиссурой поддерживается очень слабо. Да, артист Андрей Манохин комичен в роли сэра Эндрю Эгьючика своими «ужимками и прыжками», но их белгородские театралы видели уже неоднократно. Реплики этих героев изобилуют грубоватыми шутками материально-телесного низа, и зритель ждет, что отыграны они будут смачно, фарсово, на грани пристойности, а вместо этого видит, большей частью, фиги в карманах.
Пожалуй, два самых сложных образа «Двенадцатой ночи» - это Мальволио и шут Фесте. О, сколько актуальных смыслов, сегодняшних ассоциаций заключено в текстах персонажей почти полутысячелетней давности! Маниакальное вожделение Мальволио любой ценой возвысить свою участь, выбиться из грязи в князи - оно и комично, и трагично. Монологи и реплики шута расставляют важные акценты в восприятии событий и характеров пьесы, выносят язвительный приговор действительности и содержат философское отношение к вечным проблемам бытия. И снова - увы! - пространство этих ролей, очерченное режиссером, не позволяет артистам Андрею Зотову (Мальволио) и Сергею Пименову (Фесте) «застроить» их живыми, здесь и сейчас возникающими мыслями и чувствами, обнажить и шекспировские, и сиюминутные, и всегдашние смыслы комедии.
У Сергея Стеблюка в «Двенадцатой ночи» были хорошие помощники - соавторы спектакля. Художник Андрей Климов придумал для героев комедии не только очень красивые, но и ярко индивидуальные костюмы, в которых средиземноморский колорит вступает в недвусмысленное противоборство с британским. Обыгран ли этот контраст в спектакле? Ничуть! Великолепный палаццо с грандиозной лестницей (нечто подобное мы видели и в сценографии А.Климова к «Царской охоте»), с помощью сценического круга поворачивающийся к зрителю то одной, то другой стороной, в спектакле большей частью существует вхолостую, не используется режиссером, не обживается актерами. И, собственно говоря, возникает вопрос: для чего нужно это архитектурное сооружение, если действие спектакля происходит в основном на авансцене? Очень красивую музыку, точно соответствующую настроению каждой сцены, изящно стилизующую дух и мелодические каноны эпохи Ренессанса, написал к спектаклю Руслан Родионов. Да вот беда: художественное решение и музыкальное оформление «Двенадцатой ночи» хороши сами по себе, вне всякой связи с замыслом и режиссурой спектакля.
...Пренебрежение шекспировскими духом и смыслом, отсутствие в спектакле художественной целостности, невнятность решения образов очевидны и обидны. Ведь мы так соскучились по Шекспиру! А вместо него получили красиво упакованный эрзац-продукт...
Наталья ПОЧЕРНИНА.
Газета «Смена», 2008 год.
Увы, я не нахожу ответов на эти вопросы! Не считываю символику лодки, приткнувшейся в углу авансцены, морских раковин, разбросанных по сцене. Не понимаю смысл включения в спектакль шекспировских сонетов, если их намеренно читают так тихо, невнятно и торопливо. И самое главное - ни рационально, ни эмоционально не могу объяснить мотивы поступков героев.
Однако при аморфности замысла спектакля, режиссерская заданность в актерской трактовке образов «Двенадцатой ночи» весьма отчетлива. Порой это выглядит удачно, как в случае с герцогом Орсино (засл. арт. России Виталий Бгавин). Образ строится через иронию, любовные страдания герцога пафосны и театральны, он самовлюбленно упивается своей страстью, и комический эффект сопровождает роль на протяжении всего действия. Порой режиссёр следует вполне поверхностному прочтению образа. Так, Себастьян (арт. Дмитрий Гарнов) - герой подчеркнуто романтический, речь его певуча, интонация приподнята, движения легки и стремительны.
вот героини, как мне показалось, стали жертвами неких режиссёрских установок. В Оливии (арт. Эвелина Ткачёва) С.Стеблюк увидел незамутненную лирику и больше ничего. И действительно, высокий голосок с нежными, сладкими нотами, воздушная возвышенность интонации в лирических сценах вполне органичны. Но когда Оливия в собственном доме выстраивает жесткую вертикаль власти, уверенно разруливает критические ситуации, хочется других - более резких, сочных красок в речевой палитре актрисы Ткачёвой, которыми, как мы знаем, она владеет очень выразительно.
Решение образа Виолы (арт. Оксана Бгавина), этого мотора действия пьесы, в спектакле таково, что актрисе, способной играть очень тонкие психические состояния, умеющей быть и дурашливо-ребячливой, и пронзительно-женственной, приходится в основном напряженно вслушиваться и всматриваться в происходящее. Живость, озорство, изобретательность, решительность, которые составляют обаяние шекспировской героини, режиссёр почему-то счёл лишними.
Особенно странно выглядят в спектакле парные сцены героинь (когда Виола изображает мальчика Цезарио, а Оливия, в отличие от зрителей, не подозревает, что перед ней девушка): в этой «комедии ошибок» так и просятся острые «специи», юмористические краски, но режиссёр упорно ведет партии героинь в лирической тональности.
Отсутствие ясно сформулированной задачи относительно смысла и стиля исполнения характеризует роли второго плана. Да, артист Игорь Ткачёв в роли сэра Тоби рвёт жилы, пытаясь сделать образ смешным, ярким, наполнить его энергией фальстафовского жизнелюбия. Но это стремление режиссурой поддерживается очень слабо. Да, артист Андрей Манохин комичен в роли сэра Эндрю Эгьючика своими «ужимками и прыжками», но их белгородские театралы видели уже неоднократно. Реплики этих героев изобилуют грубоватыми шутками материально-телесного низа, и зритель ждет, что отыграны они будут смачно, фарсово, на грани пристойности, а вместо этого видит, большей частью, фиги в карманах.
Пожалуй, два самых сложных образа «Двенадцатой ночи» - это Мальволио и шут Фесте. О, сколько актуальных смыслов, сегодняшних ассоциаций заключено в текстах персонажей почти полутысячелетней давности! Маниакальное вожделение Мальволио любой ценой возвысить свою участь, выбиться из грязи в князи - оно и комично, и трагично. Монологи и реплики шута расставляют важные акценты в восприятии событий и характеров пьесы, выносят язвительный приговор действительности и содержат философское отношение к вечным проблемам бытия. И снова - увы! - пространство этих ролей, очерченное режиссером, не позволяет артистам Андрею Зотову (Мальволио) и Сергею Пименову (Фесте) «застроить» их живыми, здесь и сейчас возникающими мыслями и чувствами, обнажить и шекспировские, и сиюминутные, и всегдашние смыслы комедии.
У Сергея Стеблюка в «Двенадцатой ночи» были хорошие помощники - соавторы спектакля. Художник Андрей Климов придумал для героев комедии не только очень красивые, но и ярко индивидуальные костюмы, в которых средиземноморский колорит вступает в недвусмысленное противоборство с британским. Обыгран ли этот контраст в спектакле? Ничуть! Великолепный палаццо с грандиозной лестницей (нечто подобное мы видели и в сценографии А.Климова к «Царской охоте»), с помощью сценического круга поворачивающийся к зрителю то одной, то другой стороной, в спектакле большей частью существует вхолостую, не используется режиссером, не обживается актерами. И, собственно говоря, возникает вопрос: для чего нужно это архитектурное сооружение, если действие спектакля происходит в основном на авансцене? Очень красивую музыку, точно соответствующую настроению каждой сцены, изящно стилизующую дух и мелодические каноны эпохи Ренессанса, написал к спектаклю Руслан Родионов. Да вот беда: художественное решение и музыкальное оформление «Двенадцатой ночи» хороши сами по себе, вне всякой связи с замыслом и режиссурой спектакля.
...Пренебрежение шекспировскими духом и смыслом, отсутствие в спектакле художественной целостности, невнятность решения образов очевидны и обидны. Ведь мы так соскучились по Шекспиру! А вместо него получили красиво упакованный эрзац-продукт...
Наталья ПОЧЕРНИНА.
Газета «Смена», 2008 год.
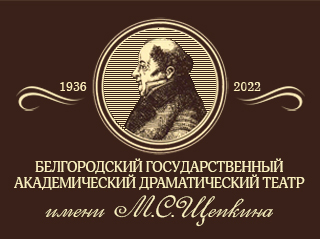


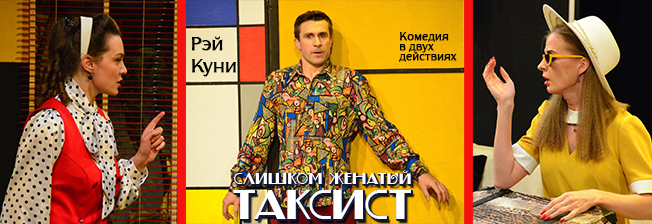







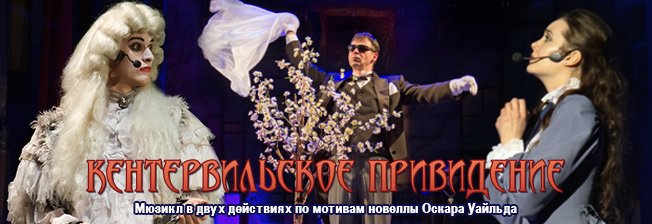

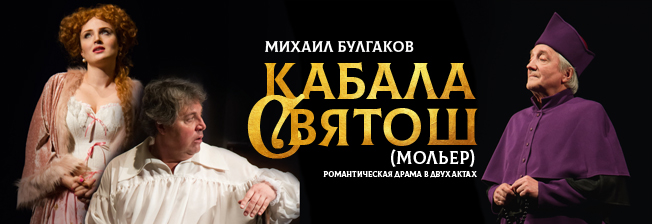





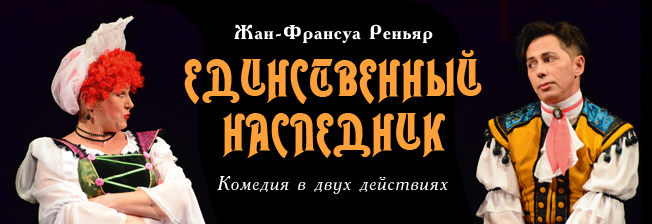


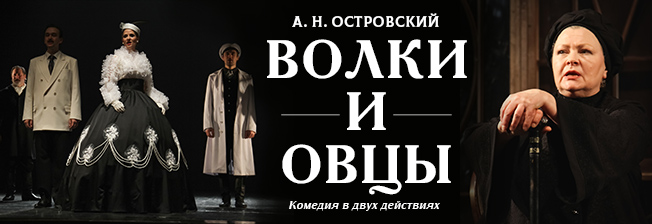

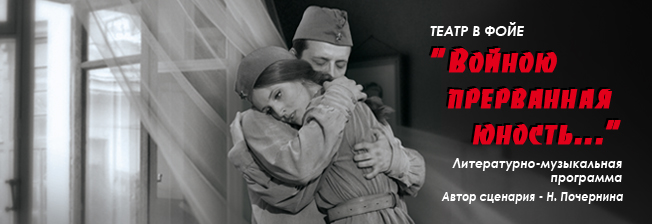

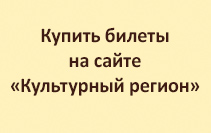
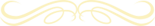
 08.03.2008,
08.03.2008,